полина Григорьева
Побег в себя
Мысль сосредоточиться в себе, оторвать пуповину, связующую нас с Родиной и современностью, является у людей после всякой неудачи, после каждой утраченной веры.
А. Герцен
А. Герцен
В Мюнхене Ратушную площадь не узнать: все свободное пространство, раньше занятое туристами и голубями, сейчас оккупируют выходцы с востока. Женщины в паранже, оставляющей открытой только прорези для глаз, темноволосые мужчины с густыми бровями, угрюмо смотрящие исподлобья, дерганые подростки, разговаривающие между собой со странными, каркающими интонациями арабского языка. Я сворачиваю в соседний подвал и спускаюсь в знаменитую пивную, давно превратившуюся в главную туристическую достопримечательность. Там всегда по-немецки шумно: играет оркестр, поет компания пьяных ребят, разносят бретцели и пиво — этот шум не меняется уже десятилетия, так что о том, как теперь выглядит Мариенплатц, невольно забываешь. Я беру кружку светлого, сажусь передохнуть — со мной за столом выпивает пожилой немец в национальном баварском костюме. Это завлекалово для туристов, так что я сначала не обращаю внимания, но он заговаривает первым: узнает русскую, с трудом выговаривает "здравствуйте" и переходит на английский.
- Первый раз в Мюнхене?
- Нет, - я вежливо улыбаюсь, - четвёртый. Но город очень изменился, поэтому чувство, будто приехала впервые.
Кажется, я задеваю какое-то больное место в своем собеседнике, потому что он недовольно цедит в пивную пену:
- Понаехали...
- Но ведь вы голосовали за это, вы в Евросоюзе, - я не скрываю своего недоумения, - вы выбираете законы, чтобы принимать мигрантов без адаптации в вашу культурную среду. Это последствия вашей политики — если она вам не нравится, почему вы ее придерживаетесь?
Мужчина с усталым видом, будто он делает это не в первый раз, начинает рассказывать. Что первый раз он голосовал против, но его голос ни на что не повлиял, поэтому он перестал принимать участие в выборах, дистанцировался от политической жизни вообще, и сейчас избегает тех мест, которые напоминают ему о переменах.
- Внутренняя эмиграция, - констатирую я.
- Ну, кому как не русским это не знать, - отвечает немец, и я краснею. Один-ноль в его пользу.
- Первый раз в Мюнхене?
- Нет, - я вежливо улыбаюсь, - четвёртый. Но город очень изменился, поэтому чувство, будто приехала впервые.
Кажется, я задеваю какое-то больное место в своем собеседнике, потому что он недовольно цедит в пивную пену:
- Понаехали...
- Но ведь вы голосовали за это, вы в Евросоюзе, - я не скрываю своего недоумения, - вы выбираете законы, чтобы принимать мигрантов без адаптации в вашу культурную среду. Это последствия вашей политики — если она вам не нравится, почему вы ее придерживаетесь?
Мужчина с усталым видом, будто он делает это не в первый раз, начинает рассказывать. Что первый раз он голосовал против, но его голос ни на что не повлиял, поэтому он перестал принимать участие в выборах, дистанцировался от политической жизни вообще, и сейчас избегает тех мест, которые напоминают ему о переменах.
- Внутренняя эмиграция, - констатирую я.
- Ну, кому как не русским это не знать, - отвечает немец, и я краснею. Один-ноль в его пользу.
Любой человек с рождения интегрирован в общество, в котором он появился на свет. Вместе с умением ходить, разговаривать, писать, считать каждому из нас в менее явном виде прививаются также навыки общения и существования в социуме. Привычная среда взаимодействия отчасти является причиной любви к Родине. Но иногда случается так, что социум вступает в конфликт с внутренним "я" человека. Когда таких конфликтов становится много, или личность, испытывающая неудовлетворенность, обладает харизмой и внутренней силой, противоречия разрешаются переменами: революционными или эволюционными. В России — справедливости ради, не только в ней — еще со времен Рюриковичей появился еще один путь: переезд в другую страну, где общество с другими привычками живет по другим правилам. Со временем эмиграция стала естественным путем развития тех людей, которые не могли сосуществовать с институтами власти в стране. Но эмиграция подразумевает некоторую финансовую свободу, возможность передвижения — даже если это не подготовленный переезд, а бегство, прыжок в неизвестность, для прыжка нужен трамплин. При авторитарных, диктаторских режимах, при травле, преследовании, его подготовить практически нереально, поэтому единственным путем побега остается бегство в себя. Внутренняя эмиграция.
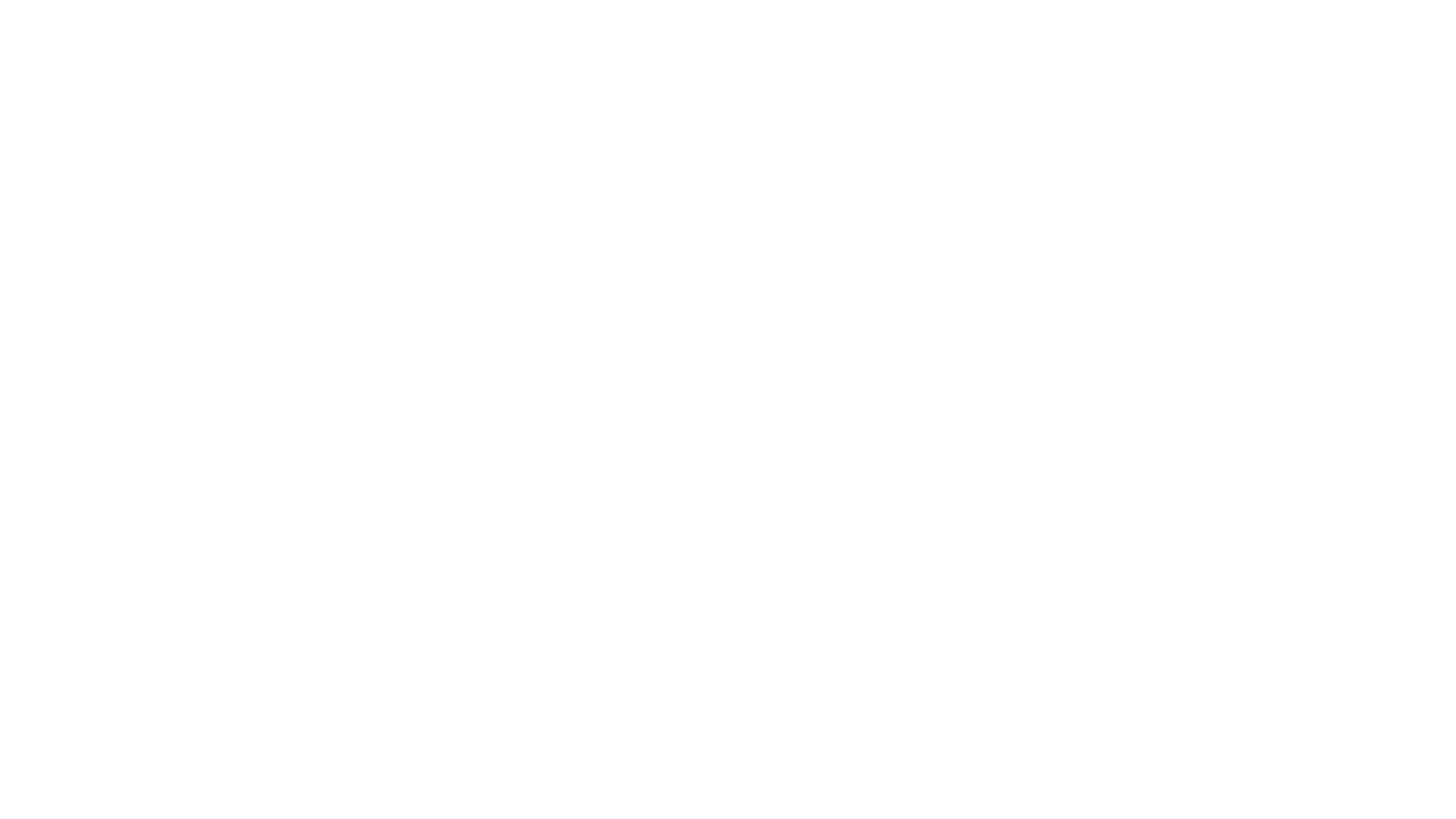
Как и любая эмиграция, для переживающего ее человека — это драма и травма, быть может, даже большая, чем для эмигранта переехавшего. У последнего хотя бы остается место, куда он может оглянуться с тоской и надеждой; внутренний эмигрант становится чужим на своей Родине. Он не влияет на политическую жизнь из-за добровольного выбора или из-за давления правительства, он не меняет среду обитания, а приспосабливается к ней, он вынужден прятать свою энергию внутри себя или искать хоть какой-то, пусть даже неадекватный, выход — Даниил Хармс писал детские стихи не от любви к детям.
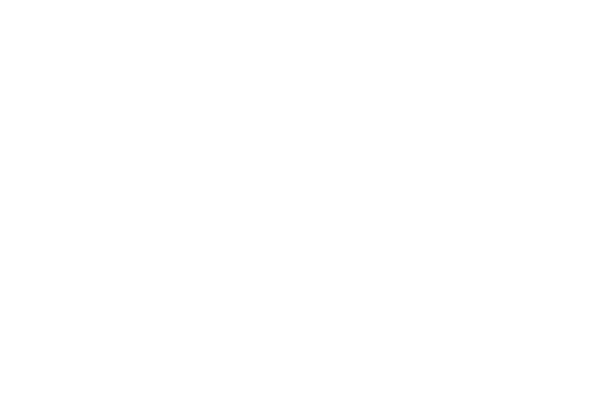
Очень часто внутренняя эмиграция романтизируется: смотрите, человек не
прогнулся, но и пачкаться в грязи политики и борьбы тоже не стал. Для России, которой характерны крайности и упрощенная до полярности система "правитель — главный оппозиционер", мыслящим интеллектуалам с внутренней моралью зачастую не подходит ни один вариант существования. Правда в том, что непринятие функционирующей модели или же отказ от борьбы погружают переживающего внутреннюю эмиграцию в самообман. У него больше не остается ориентиров, кроме самого себя, он отчаянно убеждает себя в том, что является нормальным — под понятие "нормы" подгоняется и аполитичность, и тоска по несуществующему, идеализированному государству, и отторжение общества, которое не принимает ценности человека.
прогнулся, но и пачкаться в грязи политики и борьбы тоже не стал. Для России, которой характерны крайности и упрощенная до полярности система "правитель — главный оппозиционер", мыслящим интеллектуалам с внутренней моралью зачастую не подходит ни один вариант существования. Правда в том, что непринятие функционирующей модели или же отказ от борьбы погружают переживающего внутреннюю эмиграцию в самообман. У него больше не остается ориентиров, кроме самого себя, он отчаянно убеждает себя в том, что является нормальным — под понятие "нормы" подгоняется и аполитичность, и тоска по несуществующему, идеализированному государству, и отторжение общества, которое не принимает ценности человека.
Отсюда нет выхода — только постоянный невроз, угнетенность, невозможность счастья на биологическом уровне.
Любая внутренняя эмиграция ведет к еще большему отчуждению, к более сильной изоляции и оторванности от общества. Оно начинает функционировать по законам, бесконечно далеким для человека, ушедшим во внутреннюю эмиграцию, его временные трудности, которые, как он убеждает себя, надо перетерпеть, становятся постоянными. Отсюда нет выхода — только постоянный невроз, угнетенность, невозможность счастья на биологическом уровне. Оттого многие внутренние эмигранты рано или поздно становятся эмигрантами внешними: это их попытка сбежать, построить жизнь с нуля, начать с чистого листа.
Есть еще один путь, более благородный, требующий больших эмоциональных затрат. Это выход из кокона ради перемен, внешних и внутренних. От «всего лишь писатель» до «я буду петь свою музыку», от внутреннего апатичного смирения до прогрессивного сражения за свой комфорт.
Есть еще один путь, более благородный, требующий больших эмоциональных затрат. Это выход из кокона ради перемен, внешних и внутренних. От «всего лишь писатель» до «я буду петь свою музыку», от внутреннего апатичного смирения до прогрессивного сражения за свой комфорт.
Немец выходит из пивной на Мариенплатц и подбирает банки от колы, которые побросали сирийские подростки. Бессмысленная борьба с мусором: они вернутся через час и сведут на нет все усилия убравшего за ними человека. Но для него, наверное, в этом непроизвольном жесте защиты своей страны заключена любовь к ней — а настоящая любовь никогда не может быть пассивной.