Яна Галина
«Он заблудился в бездне времен»
Размышления о рассказе Е. И. Замятина
«Десятиминутная драма»
«Десятиминутная драма»
Время циклично. И оттого – безмерно. Оно движется по одному
и тому же пути, замыкается в круг и близится к бесконечности.
Оно охватывает множество эпох и континентов, переносит нас
в разные исторические периоды и пространства, сталкивает представителей разных поколений, создавая новые случайности
и доказывая их неслучайность.
и тому же пути, замыкается в круг и близится к бесконечности.
Оно охватывает множество эпох и континентов, переносит нас
в разные исторические периоды и пространства, сталкивает представителей разных поколений, создавая новые случайности
и доказывая их неслучайность.
Мчался он бурей темной, крылатой,
Он заблудился в бездне времён…
Остановите, вагоновожатый,
Остановите сейчас вагон!
Он заблудился в бездне времён…
Остановите, вагоновожатый,
Остановите сейчас вагон!
Все вечное и неразрешимое – в литературе приобретает особый шарм. Поэтому сегодня поговорим о теме, ставшей наиболее близкой мне за последние четыре года – о Е. И. Замятине, а точнее – о его рассказе «Десятиминутная драма».
“
Место действия рассказа – Санкт-Петербург. В центре внимания читателей –Трамвай No 4 и его пассажиры. В тот день он двигался по своему обычному маршруту. Ничего не предвещало беды – до тех пор, пока на сцене не появилось два персонажа.
Первый из них – изысканно одетый молодой человек. Второй – подвыпивший мужик, мастеровой, одетый грубо и неряшливо. Оба они зашли в вагон с какими-то своими мыслями, как вдруг сели друг напротив друга. Это и стало роковой ошибкой.
Такое соседство не могло не заинтересовать мастерового. Он стал обвинять молодого человека в его «буржуйстве» и излишней педантичности. Пассажиры уже представили себе кровавую сцену, но конфликт разрешился совершенно необычным способом...
Первый из них – изысканно одетый молодой человек. Второй – подвыпивший мужик, мастеровой, одетый грубо и неряшливо. Оба они зашли в вагон с какими-то своими мыслями, как вдруг сели друг напротив друга. Это и стало роковой ошибкой.
Такое соседство не могло не заинтересовать мастерового. Он стал обвинять молодого человека в его «буржуйстве» и излишней педантичности. Пассажиры уже представили себе кровавую сцену, но конфликт разрешился совершенно необычным способом...
С помощью анализа композиции и лингвистики текста попробуем разобраться в том, что таит в себе этот небольшой на первый взгляд, но довольно сложный и многоуровневый по своему устройству рассказ.
Писатель или драматург?
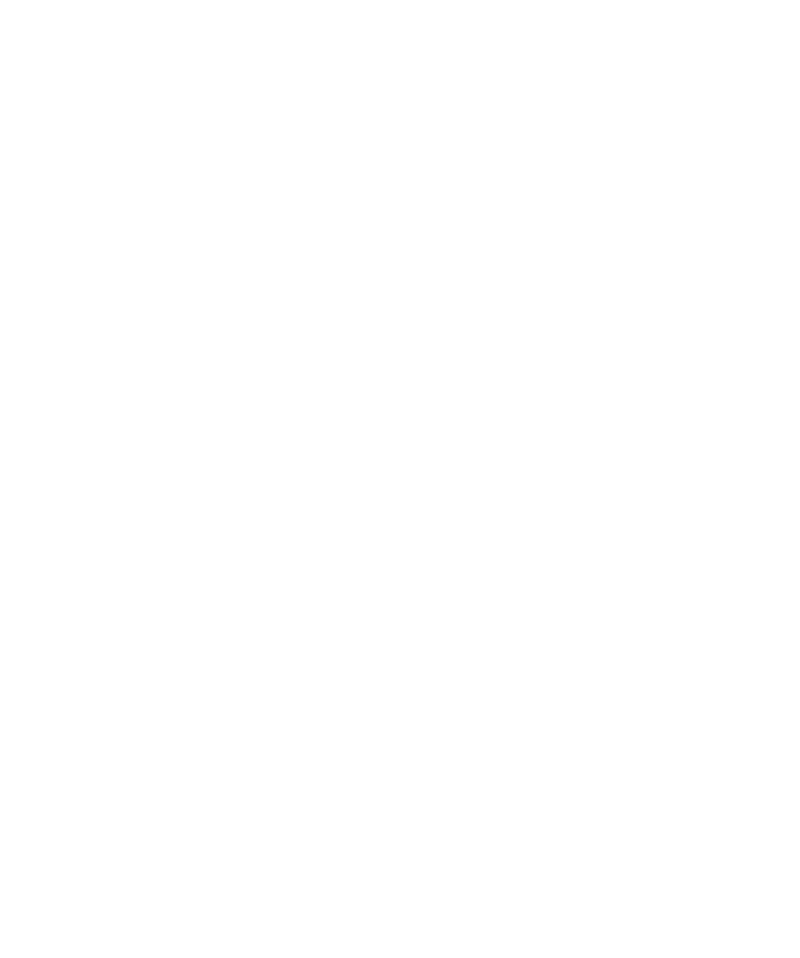
Портрет Евгения Замятина. Художник Борис Кустодиев. 1923 год
Евгений Иванович Замятин – русский писатель начала XX века. Значительное место в его жизни занимало театральное искусство. Однажды он заметил: «Как правило, – пьеса у меня пишется быстрее и легче, чем рассказ, повесть, роман (потому что повесть, роман – это пьеса плюс многое другое)».
Однако за всю свою жизнь Замятин написал всего девять пьес, среди которых наиболее известны инсценировки его собственных текстов. Тем не менее замятинская проза обладает удивительной театральностью. «Десятиминутная драма» – не исключение. Эффект сценичности играет здесь важную роль и во многом определяет юмористичность рассказа.
Однако за всю свою жизнь Замятин написал всего девять пьес, среди которых наиболее известны инсценировки его собственных текстов. Тем не менее замятинская проза обладает удивительной театральностью. «Десятиминутная драма» – не исключение. Эффект сценичности играет здесь важную роль и во многом определяет юмористичность рассказа.
Что не так с заглавием?
Первое, что может насторожить – это заглавие, а именно – слово драма, которое и является причиной противоречия. Перед нами – прозаический текст, представляющий себя как драматический. Парадокс. И он – не единственный.
Действие происходит в трамвайном вагоне – не сценической реальности, организованной, однако, по законам сцены. Наиболее интересна игра со светом, который имеет важное значение в театральных постановках. Все пространство, находящееся за пределами «сцены», т. е. вагона, затемнено.
Действие происходит в трамвайном вагоне – не сценической реальности, организованной, однако, по законам сцены. Наиболее интересна игра со светом, который имеет важное значение в театральных постановках. Все пространство, находящееся за пределами «сцены», т. е. вагона, затемнено.
«Трамвай No 4, с двумя желтыми глазами, несся сквозь холод, ветер, тьму вдоль замерзшей Невы. Внутри вагона было светло».
На это указывает сочетание слов «с двумя желтыми глазами» и слово «тьма».
В это же время сама сцена – освещена: «внутри вагона было светло». То есть свет в рассказе используется таким же образом, как и в сценическом пространстве. И это далеко не все световые (и цветовые) эффекты, которые можно заметить в рассказе.
А что на счет театральной труппы? В качестве актеров здесь выступают пассажиры трамвая. Прежде всего – мастеровой, «лакированный человек» и кондуктор.
В это же время сама сцена – освещена: «внутри вагона было светло». То есть свет в рассказе используется таким же образом, как и в сценическом пространстве. И это далеко не все световые (и цветовые) эффекты, которые можно заметить в рассказе.
А что на счет театральной труппы? В качестве актеров здесь выступают пассажиры трамвая. Прежде всего – мастеровой, «лакированный человек» и кондуктор.
«Двадцать пар глаз, ни на секунду не отрываясь, следили за развитием приближающейся к развязке драмы».
Остальные же персонажи больше похожи на зрителей. На это указывает и их общее наименование – «трамвайная аудитория».
Интересно, что в роли зрителя выступает и читатель: именно к нему обращается рассказчик, побуждая принять рассказ за сценическое действие.
Интересно, что в роли зрителя выступает и читатель: именно к нему обращается рассказчик, побуждая принять рассказ за сценическое действие.
«Для сегодняшней литературы плоскость быта — то же, что земля для аэроплана: только путь для разбега — чтобы потом вверх — от быта к бытию, к философии,
к фантастике».
– Е. И. Замятин
к фантастике».
– Е. И. Замятин
Кто рассказывает историю?
Тут мы подходим к одному из самых важных моментов текста, а именно – к проблеме автора. Лицо, повествующее нам эту историю, никаким образом не скрывает своего авторства.
«Кроме автора, никто из присутствующих не подозревал, что сейчас они станут действующими лицами в моем рассказе, с волнением ожидающими развязки десятиминутной трамвайной драмы».
Мы ясно ощущаем присутствие автора в пространстве текста. «Лакированный человек» садится напротив автора, а мастеровой – рядом с ним. И повествование ведется от первого лица. Однако, важно сделать некоторую оговорку.
«Нарратология — это «теория повествования». В отличие от традиционных типологий, относящихся более или менее исключительно к жанрам романа или рассказа
и ограничивающихся областью художественной литературы, нарратология, сложившаяся на Западе в русле структурализма в 1960-е годы, стремится к открытию общих структур всевозможных «нарративов», т. е. повествовательных произведений любого жанра
и любой функциональности»
и ограничивающихся областью художественной литературы, нарратология, сложившаяся на Западе в русле структурализма в 1960-е годы, стремится к открытию общих структур всевозможных «нарративов», т. е. повествовательных произведений любого жанра
и любой функциональности»

Вольф Шмид
Немецкий филолог, русист и теоретик литературы
Шмид пишет о том, что «грамматическая форма не должна лежать в основе типологии нарратора, поскольку любой рассказ ведется, собственно говоря, от первого лица, даже если грамматическое лицо в тексте выражено не эксплицитно». Различительным признаком должна являться «функциональная отнесенность форм первого лица». В нашем случае «я» относится и к акту повествования, и к повествующему миру, поэтому мы смело можем утверждать о том, что автор является не только лицом повествующим, но и тем, о ком повествуют.
Пространство и время
Теперь обратимся к проблеме точки зрения (то есть попытаемся определить, с чьей позиции мы видим все происходящее). Первым, что мы рассмотрим, будет пространственно-временной план. С точки зрения пространственной характеристики позиция рассказчика не зависит от передвижения персонажей. Действие открывается внешним описанием трамвая. Можно предположить, что наблюдатель находится довольно близко к вагону, так как может разглядеть номер трамвая («трамвай №4…»). Затем эта позиция отдаляется и становится более общей: теперь мы видим горящие фары, оставляющие длинные полоски света в темноте. Наконец, наблюдатель поднимается на такую высоту, с которой мы можем отчетливо увидеть «замерзшую Неву». Эту позицию, в силу ее довольно широкого охвата, можно назвать точкой зрения «птичьего полета». Затем позиция наблюдателя вновь сужается, и мы попадаем в светлый вагон (к вопросу о световых эффектах рассказа можно добавить, что такая резкая смена света напоминает то мгновение, когда в театре после нескольких секунд затемнения вдруг включаются сценические прожекторы, ослепляющие зрителей). Здесь точка зрения рассказчика последовательно скользит от одного персонажа к другому, от одной детали к другой, и «уже самому читателю предоставляется возможность смонтировать эти отдельные описания в одну общую картину». При этом взгляд рассказчика совершенно независим и самостоятелен, он не обусловлен перемещением действующих лиц (во многом потому, что персонажи не меняют свое местоположение, и рассказчик самостоятельно выбирает объект описания).
«Две розовые комсомолки спорили о Троцком. Дама контрабандой везла в корзинке щенка. Кондуктор тихо беседовал с бывшим старичком о Боге».
Рассказчик описывает все происходящее относительно себя («молодой человек сел напротив меня…», «он плюхнулся на скамью рядом со мной…»). Однако порою рассказчик отождествляется с персонажем, принимая его точку зрения. Например, глазами мастерового мы наблюдаем за тем, что происходит в трамвае.
«Покачиваясь, он путешествовал улыбкой по лицам, он проплыл мимо розовых комсомолок, кондуктора, дамы со щенком – и остановился, привлеченный блеском американских очков».
Еще более примечательно следующее предложение: «Прекрасный молодой человек растерянно, покорно поднял запряженное в очки лицо, глаза его под стеклами замигали». Ранее мы узнаем о том, что мастеровой нагнулся «к американским очкам», т. е. довольно близко к лицу молодого человека, поэтому то, что его глаза замигали, скорее всего, мог увидеть только мастеровой.
Интересно и то, как статика вагона противопоставляется динамике «несущегося» трамвая, образ которого возникает в начале и в конце рассказа.
Отсчет времени в рассказе ведется с позиции рассказчика. Однако и тут он может становиться на точку зрения персонажа. Например, после того, как молодой человек вошел в вагон и занял свое место, трамвай еще некоторое время не отправлялся, так как, вероятно, ждал мастерового. Вероятно, что ожидание заняло не более нескольких минут, что само по себе – довольно мало. Но для «лакированного человека» это время казалось целой вечностью.
Интересно и то, как статика вагона противопоставляется динамике «несущегося» трамвая, образ которого возникает в начале и в конце рассказа.
Отсчет времени в рассказе ведется с позиции рассказчика. Однако и тут он может становиться на точку зрения персонажа. Например, после того, как молодой человек вошел в вагон и занял свое место, трамвай еще некоторое время не отправлялся, так как, вероятно, ждал мастерового. Вероятно, что ожидание заняло не более нескольких минут, что само по себе – довольно мало. Но для «лакированного человека» это время казалось целой вечностью.
«Он нетерпеливо бил в пол лакированным копытом ботинка; ему надо вовремя, точно попасть на Васильевский остров к полудеве Марии, а кондуктор все еще задерживал на остановке вагон и не давал звонка».
Он очень спешит и даже нервничает. Ранее рассказчик, скорее всего, не знал, куда и зачем направляется молодой человек. Здесь же мы видим точное указание – на Васильевский остров к Марии. Однако в точку зрения молодого человека вклинивается позиция рассказчика. Во-первых, герой бьет в пол не просто ботинком, а именно «копытом ботинка», при чем – лакированного (важная деталь в описании молодого человека, к которой мы обратимся чуть позже). Показательно в этом смысле и слово «бил» (вероятно, со словом «ботинок» был бы употреблен более нейтральный глагол «стучать»). Вместе они дополняют созданный ранее образ «бегового жеребца». Кроме того, Мария – не просто дева, а «полудева». Все это выражает отношение рассказчика к своим героям, его оценку (в первом случае – оценивание молодого человека, во втором – его возлюбленной) и вносит в повествование юмористический характер.
Рассказчик совмещает в себе и участника действия, и его зрителя, он и воспринимает действие, и описывает его. Его можно сравнить с режиссером, который, с одной стороны, совершенно точно знает сюжет пьесы и мысленно проигрывает ее вместе с актерами, а с другой – является просто зрителем и не может предсказать исход спектакля.
Оценке рассказчика подвергается и «лакированный человек», и мастеровой, и даже комсомолки, которые в представлении нарратора становятся «розовыми». Отношение рассказчика к персонажам задает определенный тон читательского восприятия. Так, молодой человек воспринимается рассказчиком как «очаровательный», «нежный» педант, «старательно» подтягивающий свои брюки и поправляющий очки. В описании молодого человека встречаются три довольно ярких эпитета – «очаровательный», «прекрасный», «лакированный». Именно они маркируют позицию рассказчика. На первый взгляд, это довольно приятный и аккуратно созданный образ, вызывающий симпатию у читателей, в отличие от образа мастерового. Описывая этого персонажа, рассказчик всячески стремится подчеркнуть его неаккуратность, неряшливость, громоздкость (в противовес утонченности молодого человека).
Рассказчик совмещает в себе и участника действия, и его зрителя, он и воспринимает действие, и описывает его. Его можно сравнить с режиссером, который, с одной стороны, совершенно точно знает сюжет пьесы и мысленно проигрывает ее вместе с актерами, а с другой – является просто зрителем и не может предсказать исход спектакля.
Оценке рассказчика подвергается и «лакированный человек», и мастеровой, и даже комсомолки, которые в представлении нарратора становятся «розовыми». Отношение рассказчика к персонажам задает определенный тон читательского восприятия. Так, молодой человек воспринимается рассказчиком как «очаровательный», «нежный» педант, «старательно» подтягивающий свои брюки и поправляющий очки. В описании молодого человека встречаются три довольно ярких эпитета – «очаровательный», «прекрасный», «лакированный». Именно они маркируют позицию рассказчика. На первый взгляд, это довольно приятный и аккуратно созданный образ, вызывающий симпатию у читателей, в отличие от образа мастерового. Описывая этого персонажа, рассказчик всячески стремится подчеркнуть его неаккуратность, неряшливость, громоздкость (в противовес утонченности молодого человека).
«Он вошел, утвердил на полу свои огромные валеные сапоги и крепко ухватился за вагонный ремень», «…невидимое землетрясение подкосило его, и он плюхнулся на скамью рядом со мной».
Как говорят герои рассказа?
Важную роль в создании образа персонажей играет план фразеологии. Речь мастерового наиболее стилистически маркирована в тексте. Используемая им лексика преимущественно разговорная.
Разговорные слова: «трахнуть – «трахну тебе по очкам»; «лезть» – «…ты лучше не лезь!»). Просторечия: «тютька», «тютёчек». Грубая, бранная лексика: «А и бить же мы вас, сукиных детей, будем... эх!».
Все это – стилистически сниженная лексика. Еще один интересный пример –словосочетание «член капитала», которое отражает образ эпохи – 20-х годов XX века.
С помощью речевой (а именно – стилистической) характеристики мастерового вводится ссылка не только на его индивидуальную позицию в отношении интеллигенции, но и даже на социальную позицию. В этом смысле примечательно следующее предложение: «А и бить же мы вас, сукиных детей, будем... эх!». Употребление местоимения «мы» здесь неслучайно. Оно отражает отношение всего рабочего класса к капиталистам, неприятие по отношению к «членам капитала» и даже ненависть.
Можно отметить и фонетические особенности речи мастерового. Здесь видно внимание рассказчика к произношению персонажа.
С помощью речевой (а именно – стилистической) характеристики мастерового вводится ссылка не только на его индивидуальную позицию в отношении интеллигенции, но и даже на социальную позицию. В этом смысле примечательно следующее предложение: «А и бить же мы вас, сукиных детей, будем... эх!». Употребление местоимения «мы» здесь неслучайно. Оно отражает отношение всего рабочего класса к капиталистам, неприятие по отношению к «членам капитала» и даже ненависть.
Можно отметить и фонетические особенности речи мастерового. Здесь видно внимание рассказчика к произношению персонажа.
«Н-ну... Н-ну, и выпил... Ну, и что ж? – сказал он. – Им-мею полное право, да! Потому – вот они мозоли, вот, глядите!», «Будто газету читаешь, будто я тебе не шущест-вую! А вот как возьму, трахну тебе по очкам, так узнаешь, которые шуществуют!».
Междометия «н-ну» и такие слова, как «шущест-вую» и «им-мею», благодаря наличию дефиса в середине слова, передают заикающуюся речь пьяного человека. А слово «шуществуют» – шепелявость. Это натуралистическое воспроизведение неправильной речи подчеркивает дистанцию между позицией говорящего действующего лица – мастерового – и позицией описывающего его наблюдателя (с точки зрения которого в данный момент ведется повествование).
Здесь возникает вопрос: почему в последующих репликах мастерового мы уже не находим эти особенности? Это происходит потому, что для рассказчика было важно познакомить нас с манерой речи мастерового, для того чтобы потом сосредоточиться на ее содержании.
Речь мастерового очень эмоциональна. Реплики персонажа преимущественно восклицательные. Это может свидетельствовать как о перевозбуждении героя в силу его нетрезвого состояния, так и о его повседневном поведении, экспрессивности, неуравновешенности его характера.
А вот прямая речь молодого человека и вовсе не представлена в тексте. Он как будто лишен возможности выражать свою точку зрения, не способен сопротивляться напору мастерового.
В тексте присутствует еще одна точка зрения – кондуктора, хотя она явлена в значительно меньшей степени. Несмотря на это роль кондуктора наделена важными функциями: он ответственен за порядок в трамвае, за соблюдение «законов драматургии» и христианского долга. Действие драмы открывается «возгласом кондуктора», вагон не отправляется до тех пор, «пока там не появится второй элемент, необходимый для драматического конфликта», а затем в нужный момент именно кондуктор заполняет драматическую паузу: он торопится к месту действия, чтобы «выполнить свой долг христианина и главы пассажиров»
У остальных героев нет индивидуальных характеристик, нет особых признаков, чем-либо выделяющих их – ни в плане фразеологии, ни идеологии и ни психологии. Они напоминают однородную массу, толпу, олицетворяя основные социальные типы того времени и выполняя функцию своеобразного фона для основного конфликта.
Здесь возникает вопрос: почему в последующих репликах мастерового мы уже не находим эти особенности? Это происходит потому, что для рассказчика было важно познакомить нас с манерой речи мастерового, для того чтобы потом сосредоточиться на ее содержании.
Речь мастерового очень эмоциональна. Реплики персонажа преимущественно восклицательные. Это может свидетельствовать как о перевозбуждении героя в силу его нетрезвого состояния, так и о его повседневном поведении, экспрессивности, неуравновешенности его характера.
А вот прямая речь молодого человека и вовсе не представлена в тексте. Он как будто лишен возможности выражать свою точку зрения, не способен сопротивляться напору мастерового.
В тексте присутствует еще одна точка зрения – кондуктора, хотя она явлена в значительно меньшей степени. Несмотря на это роль кондуктора наделена важными функциями: он ответственен за порядок в трамвае, за соблюдение «законов драматургии» и христианского долга. Действие драмы открывается «возгласом кондуктора», вагон не отправляется до тех пор, «пока там не появится второй элемент, необходимый для драматического конфликта», а затем в нужный момент именно кондуктор заполняет драматическую паузу: он торопится к месту действия, чтобы «выполнить свой долг христианина и главы пассажиров»
У остальных героев нет индивидуальных характеристик, нет особых признаков, чем-либо выделяющих их – ни в плане фразеологии, ни идеологии и ни психологии. Они напоминают однородную массу, толпу, олицетворяя основные социальные типы того времени и выполняя функцию своеобразного фона для основного конфликта.
Во что одеты герои?
Посмотрим на образ молодого человека. На протяжении всего повествования мы так и не увидим полное описание его внешности. Рассказчик знакомит нас только с его очками, брюками и ботинками. И, как нам кажется, это имеет большое значение.
Первое, на что рассказчик обращает наше внимание – это «нежные гриперлевые брюки», которые молодой человек старательно подтягивает на коленях. Затем рассказчик переходит к описанию очков героя: они оказываются непременно «круглыми, американскими». Завершают образ лакированные ботинки. Все эти детали указывают на явный и, может быть, даже излишний педантизм молодого человека.
В противовес ему вводится образ мастерового. Характерными атрибутами этого персонажа являются «огромные валеные сапоги» и «белые, красивые зубы». В отличие от лакированных ботинок молодого человека сапоги мастерового напоминают настоящие русские валенки. Такое противопоставление обуви героев, вероятно, основано на противопоставлении самих персонажей. Это предположение подкрепляется и сходством следующих синтаксических конструкций: «Очки у молодого человека блестели. И блестели зубы у моего соседа». Так противопоставляются главные детали внешности персонажей. В первом случае акцентируется блеск очков, во втором – зубов. Если вспомнить выражение «глаза – зеркало души», то вся индивидуальность молодого человека, все то, что есть в нем настоящего и живого, скрывается за стеклами «американских» очков.
В то же время, зубы мастерового не прикрыты даже губами: «Белые зубы моего соседа улыбались все шире». Совершенно ясно, что сами по себе зубы улыбаться не могут, но именно так воспринимает и оценивает мастерового рассказчик. Описания зубов всячески подчеркивает «русскость» мастерового, силу его национального духа.
Первое, на что рассказчик обращает наше внимание – это «нежные гриперлевые брюки», которые молодой человек старательно подтягивает на коленях. Затем рассказчик переходит к описанию очков героя: они оказываются непременно «круглыми, американскими». Завершают образ лакированные ботинки. Все эти детали указывают на явный и, может быть, даже излишний педантизм молодого человека.
В противовес ему вводится образ мастерового. Характерными атрибутами этого персонажа являются «огромные валеные сапоги» и «белые, красивые зубы». В отличие от лакированных ботинок молодого человека сапоги мастерового напоминают настоящие русские валенки. Такое противопоставление обуви героев, вероятно, основано на противопоставлении самих персонажей. Это предположение подкрепляется и сходством следующих синтаксических конструкций: «Очки у молодого человека блестели. И блестели зубы у моего соседа». Так противопоставляются главные детали внешности персонажей. В первом случае акцентируется блеск очков, во втором – зубов. Если вспомнить выражение «глаза – зеркало души», то вся индивидуальность молодого человека, все то, что есть в нем настоящего и живого, скрывается за стеклами «американских» очков.
В то же время, зубы мастерового не прикрыты даже губами: «Белые зубы моего соседа улыбались все шире». Совершенно ясно, что сами по себе зубы улыбаться не могут, но именно так воспринимает и оценивает мастерового рассказчик. Описания зубов всячески подчеркивает «русскость» мастерового, силу его национального духа.
«И блестели зубы у моего соседа – белые, красивые – от ржаного хлеба, от мороза, от широкой улыбки».
По мере того как мастеровой усиливает наступление на молодого человека, его улыбка становится все шире, а зубы – все более открытыми. В то же время, глаза молодого человека все глубже погружаются «в оглобли очков», и вскоре становятся как будто и вовсе не заметными.
«Молодой человек почувствовал на себе взгляд, он беспокойно зашевелился в оглоблях очков».
Пространство рассказа очень маленькое. В нем важна каждая деталь. В «Десятиминутной драме» она направлена на визуализацию действия, ограниченного трамвайным вагоном. Деталь как будто замещает человека: «Мастеровой нагнулся к американским очкам».
Метонимический прием позволяет рассказчику указать на определенные особенности внешности героев, отсылающие читателя к более глубоким подробностям: «Потому – вот они мозоли, вот, глядите! – Он продемонстрировал трамвайной аудитории свои ладони и тем избавил меня от необходимости объяснить его социальное происхождение: оно и так очевидно».
Метонимический образ наполняет деталь действием. Так реализуется одна из особенностей сценического пространства – его семиотическая наполненность («рванулся в своей упряжи», «запряженный в оглобли очков»).
Метонимический прием позволяет рассказчику указать на определенные особенности внешности героев, отсылающие читателя к более глубоким подробностям: «Потому – вот они мозоли, вот, глядите! – Он продемонстрировал трамвайной аудитории свои ладони и тем избавил меня от необходимости объяснить его социальное происхождение: оно и так очевидно».
Метонимический образ наполняет деталь действием. Так реализуется одна из особенностей сценического пространства – его семиотическая наполненность («рванулся в своей упряжи», «запряженный в оглобли очков»).
«Живая литература живет не по вчерашним часам, и не по сегодняшним, а по завтрашним.
<...>
Единственное оружие, достойное человека – завтрашнего человека – это слово».
– Е. И. Замятин
<...>
Единственное оружие, достойное человека – завтрашнего человека – это слово».
– Е. И. Замятин
Художественное пространство
Немного отвлечемся от характеристики персонажей и вернемся к игре со светом и цветом. Мы уже говорили об этом ранее, теперь посмотрим на еще один интересный эпизод. После некоторого переворота в сознании мастерового прежде «чудесный мир» теряет свою красочность и становится блеклым в мировосприятии мастерового, очки и зубы перестают блестеть, а комсомолки – быть «розовыми». Все это напоминает игру со светом на театральной сцене.
«Вселенная, покачиваясь, плыла перед ним. Земля в нем совершила полный оборот в течение секунды, солнце заходило – и вот оно уже зашло, белые зубы потемнели. На лице была ночь».
Развитие конфликта
А что там с развитием конфликта? В момент его приближения к вершине впервые появляется точка зрения молодого человека. И вот это уже интересно.
«Молодой человек покраснел, рванулся в своей упряжи, но сейчас же вспомнил, что ему, архангелу с Благовещенской площади, не подобает связываться с каким-то пьяным мастеровым».
Этот пример можно назвать внутренней речью героя, которая выражает непосредственный взгляд молодого человека на происходящее.
Чуть дальше, перед самой вершиной конфликта мы вновь находим внутреннюю точку зрения молодого человека.
Чуть дальше, перед самой вершиной конфликта мы вновь находим внутреннюю точку зрения молодого человека.
«Он понял, что его василеостровское счастье погибло: в синяках, окровавленному – нельзя же ему будет предстать перед своей Марией».
Это доказывает, что в тексте все-таки представлена позиция молодого человека. Однако отсутствие его прямой речи может указывать на слабохарактерность этого персонажа, его бессилие перед рабочим классом, неспособность противостоять ему.
Библейское против мирского
Обратим внимание на два разговора, обозначенные в начале рассказа.
1. «Две розовые комсомолки спорили о Троцком».
2. «Кондуктор тихо беседовал с бывшим старичком о Боге».
2. «Кондуктор тихо беседовал с бывшим старичком о Боге».
Они намекают на две ключевые линии, проходящие через весь текст: социально-политическую и библейскую. Противопоставление мирского, громкого спора сакральной, тихой беседе открывает цепочку контрастов, из которой соткан весь текст рассказа.
С образом «бывшего старичка», тихо беседующего с кондуктором о Боге, в рассказ проникают библейские мотивы, которые затем развиваются через топонимику. Однако библейские мотивы вводит не только название остановки – «Благовещенская площадь» – но и имя той («полудева Мария»), к которой так спешит молодой человек – «архангел с Благовещенской площади». Интересно, что библейский мотив, связанный с дореволюционным названием остановки, раскрывается именно в образе молодого человека. Замятин обозначает его как «явно нетрудового элемента в виде архангела Гавриила, с неожиданным известием представшего Деве Марии».
Молодой человек входит в трамвай, держа в руках советскую общественно-политическую газету «Известия», что позволяет провести параллель с библейским образом архангела Гавриила, принесшего Деве Марии благую весть о будущем рождении Христа. Эта метафора развивается и в дальнейшем: интеллигент «нетерпеливо бил в пол лакированным копытом ботинка; ему надо вовремя, точно попасть на Васильевский остров к полудеве Марии, а кондуктор все еще задерживал на остановке вагон и не давал звонка», и ближе к развязке.
С образом «бывшего старичка», тихо беседующего с кондуктором о Боге, в рассказ проникают библейские мотивы, которые затем развиваются через топонимику. Однако библейские мотивы вводит не только название остановки – «Благовещенская площадь» – но и имя той («полудева Мария»), к которой так спешит молодой человек – «архангел с Благовещенской площади». Интересно, что библейский мотив, связанный с дореволюционным названием остановки, раскрывается именно в образе молодого человека. Замятин обозначает его как «явно нетрудового элемента в виде архангела Гавриила, с неожиданным известием представшего Деве Марии».
Молодой человек входит в трамвай, держа в руках советскую общественно-политическую газету «Известия», что позволяет провести параллель с библейским образом архангела Гавриила, принесшего Деве Марии благую весть о будущем рождении Христа. Эта метафора развивается и в дальнейшем: интеллигент «нетерпеливо бил в пол лакированным копытом ботинка; ему надо вовремя, точно попасть на Васильевский остров к полудеве Марии, а кондуктор все еще задерживал на остановке вагон и не давал звонка», и ближе к развязке.
«Он понял, что его василеостровское счастье погибло: в синяках, окровавленному - нельзя же ему будет предстать перед своей Марией».
Это во многом объясняет то, почему именно в этих фрагментах текста проявляется точка зрения молодого человека (о чем мы говорили ранее). С помощью этих примеров также можно проследить, как библейский образ Девы Марии постепенно материализуется и даже снижается: «Дева Мария» через промежуточное состояние «полудевы Марии» превращается в «свою Марию». То же происходит и с образом «Гавриила».
По мере наступления мастерового молодой человек, соотнесенный ранее с архангелом Гавриилом и занявший таким образом в глазах читателей высокое положение, постепенно теряет свое положение. Он даже как будто теряет свой человеческий вид и скрывается за очками: «рванулся в своей упряжи», «мастеровой нагнулся к американским очкам». Однако в самый напряженный момент растерянный маска интеллигента уже не спасает молодого человека, и за очками впервые появляются глаза: «Прекрасный молодой человек растерянно, покорно поднял запряженное в очки лицо, глаза его под стеклами замигали». Комический эффект усиливает эпитет «прекрасный», контрастирующий с бессилием и растерянностью героя.
Развязка конфликта парадоксальна. Устрашающий и даже несколько омерзительный мастеровой вдруг оказывается спасителем. Его образ неожиданно возвышается. За поступком мастерового невольно прочитывается одна из главных христианских заповедей: «возлюби ближнего своего». Таким образом персонажи как будто меняются ролями. В этом и заключается основной комизм конфликта.
Игра с читателем прослеживается и в намеренном оттягивании развязки: с того момента, когда мастеровой подходит к молодому человеку с угрожающими словами («А и бить же мы вас, сукиных детей, будем!»), до поцелуя проходит около трети рассказа. Однако, столь длительная пауза вполне оправдана. За это время читатель успевает окончательно убедиться в неизбежности физической расправы мастерового над молодым человеком. Тем не менее, читательские ожидания не оправдываются.
По мере наступления мастерового молодой человек, соотнесенный ранее с архангелом Гавриилом и занявший таким образом в глазах читателей высокое положение, постепенно теряет свое положение. Он даже как будто теряет свой человеческий вид и скрывается за очками: «рванулся в своей упряжи», «мастеровой нагнулся к американским очкам». Однако в самый напряженный момент растерянный маска интеллигента уже не спасает молодого человека, и за очками впервые появляются глаза: «Прекрасный молодой человек растерянно, покорно поднял запряженное в очки лицо, глаза его под стеклами замигали». Комический эффект усиливает эпитет «прекрасный», контрастирующий с бессилием и растерянностью героя.
Развязка конфликта парадоксальна. Устрашающий и даже несколько омерзительный мастеровой вдруг оказывается спасителем. Его образ неожиданно возвышается. За поступком мастерового невольно прочитывается одна из главных христианских заповедей: «возлюби ближнего своего». Таким образом персонажи как будто меняются ролями. В этом и заключается основной комизм конфликта.
Игра с читателем прослеживается и в намеренном оттягивании развязки: с того момента, когда мастеровой подходит к молодому человеку с угрожающими словами («А и бить же мы вас, сукиных детей, будем!»), до поцелуя проходит около трети рассказа. Однако, столь длительная пауза вполне оправдана. За это время читатель успевает окончательно убедиться в неизбежности физической расправы мастерового над молодым человеком. Тем не менее, читательские ожидания не оправдываются.
Трамвай на грани реальности
Временная продолжительность описываемых в рассказе событий четко обозначена в его заглавии и составляет 10 минут. С этой точки зрения событийное время довольно конкретно. Благодаря пространственным характеристикам, в тексте присутствует отмеченность начала и конца: действие начинается на «Благовещенской площади» и заканчивается на «Большом проспекте». Более того, конфликт мастерового и молодого человека приходит к своему завершению, пусть и парадоксально. Таким образом, время рассказа конечно и замкнуто. Однако наименование остановок отсылает нас к разным историческим эпохам, благодаря чему событийное время рассказа расширяется.
Тут важно отметить, что дореволюционные топонимы не просто вводят в структуру текста библейские мотивы, а, в сочетании с послереволюционными топонимами, сталкивают старый, досоветский мир с новым, коммунистическим.
Тут важно отметить, что дореволюционные топонимы не просто вводят в структуру текста библейские мотивы, а, в сочетании с послереволюционными топонимами, сталкивают старый, досоветский мир с новым, коммунистическим.
«Благовещенская площадь, – по-новому площадь Труда!», «Большой проспект… ныне проспект Пролетарской Победы!».
Столкновение двух эпох также реализуется с помощью встречи мастерового и молодого человека – интеллигента. Интересно, что рассказчик вводит топоним «проспект Пролетарской Победы» именно в кульминации рассказа. Это позволяет усилить прием обманутого ожидания, заставив читателя поверить в приближающийся удар по американским очкам и торжество мастерового.
Говоря о времени и пространстве «Десятиминутной драмы» нельзя не упомянуть хронотоп дороги, который здесь тесно переплетается с хронотопом случайной встречи. «Дорога – преимущественно место случайных встреч. На дороге пересекаются в одной временной и пространственной точке пространственные и временные пути многоразличнейших людей – представители всех сословий, состояний, вероисповеданий, национальностей, возрастов». Так и в «Десятиминутной драме»: в дороге встречаются представители разных социальных классов, мастеровой и «лакированный человек» – рабочий и интеллигент. В привычной жизни они разделены социальной иерархией и пространственной удаленностью, но здесь «пространственные и временные ряды» их судеб переплетаются, образуя конфликт, который в свою очередь является сюжетообразующим и от того самым значимым событием текста.
Столкновение мастерового с типичным представителем интеллигенции – «очаровательным молодым человеком» – остро событийно. На это указывает ряд причин. Во-первых, это событие неожиданно и непредсказуемо, прежде всего – с точки зрения читателя. Во время затянувшейся паузы читатель успевает окончательно убедиться в готовности мастерового учинить физическую расправу над молодым человеком, однако читательские ожидания не оправдываются: вместо удара мастеровой целует «лакированного человека» в губы и выходит. Также можно сказать, что это событие неожиданно и с точки зрения молодого человека. В то время, когда он уже приготовился стать жертвой пьяного рабочего, его внезапно настиг порыв любви. Во-вторых, это событие однократно и неповторяемо. В-третьих, оно явилось причиной необратимых последствий, прежде всего – для молодого человека. Мастеровой нарушил его спокойное пребывание в трамвае и, вероятно, окончательно развеял его романтические мысли о скором свидании с «полудевой Марией». Кроме того, это событие вызвало невероятный эмоциональный подъем у «трамвайной аудитории». Сначала она с волнением наблюдала за развитием «десятиминутной драмы»: «Двадцать пар глаз, ни на секунду не отрываясь, следили за развитием приближающейся к развязке драмы», – а затем разразилась неутешительным хохотом. Выходка мастерового существенно повеселила «трамвайную аудиторию», чего нельзя сказать о молодом человеке. Таким образом, это событие не оставило окружающих равнодушными и оказало на них серьезное влияние. Наконец, произошедшие в результате столкновения мастерового и молодого человека изменения можно назвать релевантными, прежде всего – для молодого человека. Для него, как непосредственного объекта гнева мастерового, очень важно, будет он избит или нет. От исхода конфликта, как мы узнаем из текста, зависит и исход вечернего времяпрепровождения молодого человека, ведь на Васильевском острове его ждет «полудева Мария». Однако для пассажиров трамвая релевантность этого события неоднозначна. То, что они испытали определенное волнение в момент совершения события, безусловно, но мы не можем сказать однозначно, изменилось ли что-то в их сознании после разрешения конфликта. То же касается и мастерового. После поцелуя он выходит из вагона, и мы больше никогда не сможем с ним увидеться. Мы также не знаем, что происходит в его сознании и происходит ли. Все это говорит лишь о разной степени событийности описываемого события, но в любом случае именно оно организовывает сюжет рассказа.
В рассказе нет фабульных перестановок. Сюжет полностью соответствует фабуле, что позволяет сконцентрироваться на конфликте между мастеровым и молодым человек, на характеристике этих персонажей и на тех многочисленных контрастах и параллелях, которые пронизывают «Десятиминутную драму».
Говоря о времени и пространстве «Десятиминутной драмы» нельзя не упомянуть хронотоп дороги, который здесь тесно переплетается с хронотопом случайной встречи. «Дорога – преимущественно место случайных встреч. На дороге пересекаются в одной временной и пространственной точке пространственные и временные пути многоразличнейших людей – представители всех сословий, состояний, вероисповеданий, национальностей, возрастов». Так и в «Десятиминутной драме»: в дороге встречаются представители разных социальных классов, мастеровой и «лакированный человек» – рабочий и интеллигент. В привычной жизни они разделены социальной иерархией и пространственной удаленностью, но здесь «пространственные и временные ряды» их судеб переплетаются, образуя конфликт, который в свою очередь является сюжетообразующим и от того самым значимым событием текста.
Столкновение мастерового с типичным представителем интеллигенции – «очаровательным молодым человеком» – остро событийно. На это указывает ряд причин. Во-первых, это событие неожиданно и непредсказуемо, прежде всего – с точки зрения читателя. Во время затянувшейся паузы читатель успевает окончательно убедиться в готовности мастерового учинить физическую расправу над молодым человеком, однако читательские ожидания не оправдываются: вместо удара мастеровой целует «лакированного человека» в губы и выходит. Также можно сказать, что это событие неожиданно и с точки зрения молодого человека. В то время, когда он уже приготовился стать жертвой пьяного рабочего, его внезапно настиг порыв любви. Во-вторых, это событие однократно и неповторяемо. В-третьих, оно явилось причиной необратимых последствий, прежде всего – для молодого человека. Мастеровой нарушил его спокойное пребывание в трамвае и, вероятно, окончательно развеял его романтические мысли о скором свидании с «полудевой Марией». Кроме того, это событие вызвало невероятный эмоциональный подъем у «трамвайной аудитории». Сначала она с волнением наблюдала за развитием «десятиминутной драмы»: «Двадцать пар глаз, ни на секунду не отрываясь, следили за развитием приближающейся к развязке драмы», – а затем разразилась неутешительным хохотом. Выходка мастерового существенно повеселила «трамвайную аудиторию», чего нельзя сказать о молодом человеке. Таким образом, это событие не оставило окружающих равнодушными и оказало на них серьезное влияние. Наконец, произошедшие в результате столкновения мастерового и молодого человека изменения можно назвать релевантными, прежде всего – для молодого человека. Для него, как непосредственного объекта гнева мастерового, очень важно, будет он избит или нет. От исхода конфликта, как мы узнаем из текста, зависит и исход вечернего времяпрепровождения молодого человека, ведь на Васильевском острове его ждет «полудева Мария». Однако для пассажиров трамвая релевантность этого события неоднозначна. То, что они испытали определенное волнение в момент совершения события, безусловно, но мы не можем сказать однозначно, изменилось ли что-то в их сознании после разрешения конфликта. То же касается и мастерового. После поцелуя он выходит из вагона, и мы больше никогда не сможем с ним увидеться. Мы также не знаем, что происходит в его сознании и происходит ли. Все это говорит лишь о разной степени событийности описываемого события, но в любом случае именно оно организовывает сюжет рассказа.
В рассказе нет фабульных перестановок. Сюжет полностью соответствует фабуле, что позволяет сконцентрироваться на конфликте между мастеровым и молодым человек, на характеристике этих персонажей и на тех многочисленных контрастах и параллелях, которые пронизывают «Десятиминутную драму».
«Он заблудился в бездне времен»
При прочтении рассказа невольно вспоминается стихотворение Николая Гумилева «Заблудившийся трамвай». Между этими текстами прослеживаются многочисленные сходства. В первую очередь – это образ трамвая. Условно его можно обозначить как хронотоп «заблудившегося трамвая». Он характеризуется цикличностью времени, которое, двигаясь по одному и тому же пути, замыкается в круг и близится к бесконечности. Пространство этого хронотопа также не имеет определенных границ: «заблудившийся трамвай» может переместиться в любую историческую эпоху, в любую точку земного шара. Благодаря этому в трамвае (как вариации хронотопа дороги) могут встретиться не просто представители разных социальных слоев, а жители разных исторических эпох, в результате чего описываемый в рассказе конфликт приобретает высокую значимость и сложность.
Бытовой, конкретизированный конфликт выходит за рамки рассказа и приобретает характер конфликта социального, где мастеровой и молодой человек – уже не просто герои рассказа, а идейные противники своего времени – рабочий и интеллигент. Затем, во многом благодаря хронотопу «заблудившегося трамвая», это столкновение достигает исторических масштабов: мастеровой и молодой человек – это представители разных поколений, а их конфликт – это пример вечной борьбы нового со старым.
Трудно сказать, что рассказчик встает на какую-то определенную сторону этой оппозиции. Он лишь показывает ее, фантазируя о том, что могло бы быть, если бы ее стороны примирились. Возможно, именно так в этом рассказе проявляется установка на фикциональность, т. е. на «то обстоятельство, что изображаемый в тексте мир является фиктивным, вымышленным». Однако такое разрешение конфликта вряд ли было бы возможно в реальном мире. На это указывает и еще одна важная композиционная особенность – эффект сценичности, о которой было сказано ранее. Да и мотив всепрощения невольно отсылает нас к какой-нибудь очень доброй и искренней, но все-таки сказке.
Тем не менее, в конце рассказа композиционный круг замыкается: трамвай вновь мчится по рельсам истории, перенося пассажиров в разные временные эпохи и пространства, сталкивая представителей разных поколений, создавая новые случайности и доказывая их неслучайность.
Бытовой, конкретизированный конфликт выходит за рамки рассказа и приобретает характер конфликта социального, где мастеровой и молодой человек – уже не просто герои рассказа, а идейные противники своего времени – рабочий и интеллигент. Затем, во многом благодаря хронотопу «заблудившегося трамвая», это столкновение достигает исторических масштабов: мастеровой и молодой человек – это представители разных поколений, а их конфликт – это пример вечной борьбы нового со старым.
Трудно сказать, что рассказчик встает на какую-то определенную сторону этой оппозиции. Он лишь показывает ее, фантазируя о том, что могло бы быть, если бы ее стороны примирились. Возможно, именно так в этом рассказе проявляется установка на фикциональность, т. е. на «то обстоятельство, что изображаемый в тексте мир является фиктивным, вымышленным». Однако такое разрешение конфликта вряд ли было бы возможно в реальном мире. На это указывает и еще одна важная композиционная особенность – эффект сценичности, о которой было сказано ранее. Да и мотив всепрощения невольно отсылает нас к какой-нибудь очень доброй и искренней, но все-таки сказке.
Тем не менее, в конце рассказа композиционный круг замыкается: трамвай вновь мчится по рельсам истории, перенося пассажиров в разные временные эпохи и пространства, сталкивая представителей разных поколений, создавая новые случайности и доказывая их неслучайность.